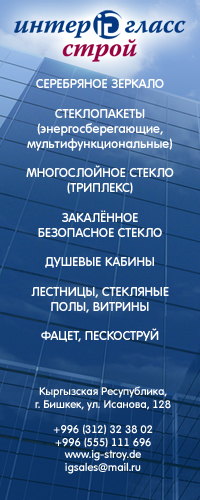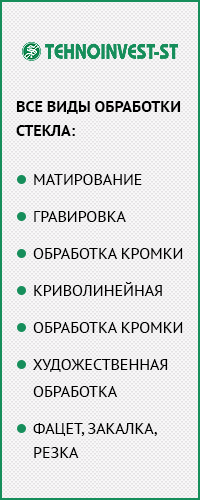Между светскостью, религией и национальной идентичностью
Автор - Кадыр Маликов 14-08-2025, 05:56
На протяжении последних лет пятнадцати с 2010 года всё более актуальным становится вопрос соотношения светских, религиозных и национальных систем ценностей. Сразу начну с того, что эта тема поднимает несколько принципиально важных тем. Во-первых, это непонимание базовых понятий (светскость, свобода, демократия, религия). Второе, это существующий разрыв между законом и восприятием в нашем обществе. Третье, это радикализация и крайности с обеих сторон (религиозной и светской). Поэтому есть риск использования идентичности как инструмента дестабилизации и раскола общества изнутри. В этом ключе очень важно раскрыть некоторые моменты.
Принятые законы, государственные концепции, стратегии, безусловно, важны. Однако для значительной части общества остаются нераскрытыми базовые понятия: что такое светскость, национальная идентичность (кыргызчылык), свобода вероисповедания и их соотношения. Этот дефицит понимания порождает напряжение, особенно на уровне общественного восприятия.
Наиболее остро это проявляется в социальных сетях, где часто фиксируется агрессивная риторика, направленная против религиозных или светских убеждений. Оскорбление чувств верующих, ярлыки, обвинения, такие как «арабкулы», «уезжайте в свой Афганистан» и т.п. становятся частью повседневного дискурса в социальных сетях между нашими гражданами. Подобная нетерпимость усиливает религиозный радикализм и в ответ: со стороны определённых лиц уже распространяются крайние идеи такфира и непризнания инакомыслящих. Таким образом наше общество сталкивается с поляризацией — движением к крайностям с обеих сторон. Кстати, такая же тенденция заметна и в казахстанских соцсетях.
Светскость, которая должна была стать гарантией конфессионального нейтралитета государства, зачастую воспринимается как завуалированная форма агрессивного атеизма. Некоторые её носители под прикрытием либеральных или неоязыческих ценностей проповедуют фактически воинствующий секуляризм, отрицающий право религии на существование в публичной сфере. В то же время в ответ на это в религиозной среде активизируются маргинальные течения, отрицающие основы современной государственности.
Проблема ещё глубже, когда в публичном пространстве искажённо трактуются не только религиозные, но и культурные понятия. Национальный и конфессиональный факторы становятся инструментами не интеграции, а наоборот раскола внутри одного народа.
Сегодня ясно, что религия и национальная идентичность — это два ключевых ресурса, которые одновременно являются основой общественного единства и также могут быть использованы извне как инструмент дестабилизации. Как показывают примеры таких конфликтов, именно эти две плоскости — этническая и религиозная — всё чаще используются как точки напряжения или управляемого конфликта. Кыргызстан не исключение.
Именно поэтому эта статья есть попытка не только проанализировать соотношение Ислама, светскости и демократии, но и предложить подходы к формированию баланса и кооперации между ними. Будущее общества зависит от того, будет ли найден путь к взаимопониманию или допущено углубление внутреннего раскола.
Вопрос соотношения Ислама, сохранение идентичности, светскости и демократии остаётся острым для большинства светских стран с большинством мусульманского населения, будь это светские Турция, арабские страны, или наши страны Центральной Азии. Несмотря на то, что в их конституциях закреплены принципы светского государства, религия, особенно Ислам, продолжает играть важную роль в общественной и моральной жизни. Возникает закономерный вопрос: действительно ли между Исламом и светскостью неизбежен конфликт — или это скорее результат недопонимания, недостаточно раскрытых терминов, понятий?
Как все знают, современная светскость — это продукт европейской истории, возникший на фоне борьбы папской власти с монархами и последующей реформации Мартина Лютера. Светскость, как она оформилась в Европе, это по сути реакция на теократию и папский клерикализм. Но даже в то время любая монархия в Европе выстраивалась на основе союза трона и церкви. Как пример можно привести слова Томаса Хоббеса, который писал, что «государство и христианство неразделимы и могут существовать совместно и признание суверенной государственной власти и свободы в принятии решений в своем существе не значит отречения от церкви». Однако Французская революция в 1789 г. положила начало воинствующему секуляризму как реакции на засилье церкви и затем полному отделению религии от общества и государства (затем модель СССР).
Но в исламской традиции таких предпосылок не было: Ислам никогда не знал института церкви, аналогичного христианскому. Здесь не существовало сословия священников с монополией на власть. Вера и управление с самого начала шли вместе от первого государства в Медине по времена пророка, до праведных халифов и далее вплоть до распада Османской империи в XX веке.
При этом и в общей исламской истории происходили этапы разделения: уже в средние века политическая власть постепенно отделялась от духовной. Особенно это было характерно для тюркских султанатов и эмиров, где светские правители (огузские, сельджукские беки, буидские султаны) всё чаще играли ключевую роль в управлении, а улемы сохраняли авторитет лишь в сфере шариатского права. Как сказал Имам Аль Газали: «Вера и власть- близнецы».
Сегодня светские государства с мусульманским населением, культурой и традициями представляют собой сложный синтез. С одной стороны светскость и светские ценности, с другой — глубоко укоренённые религиозные ценности, вера, идентичность. Это создаёт внутреннее напряжение: одни боятся возвращения религии в общественную жизнь, другие ощущают некую несвободу в реализации своих религиозных свобод. Как найти баланс и гармоничное сосуществование, казалось бы, разных ценностей?
Современный мир предлагает более гибкие модели. Мировая практика демонстрирует, что светскость может быть не конфронтационной, а кооперативной. В Великобритании, например, англиканская церковь имеет государственный статус, а монарх — её формальный глава. В Германии церковь — партнёр государства в сфере образования и социальной политики. При этом государство сохраняет конфессиональный нейтралитет и не вмешивается в богословские вопросы.
На этом фоне модель французского секуляризма, основанная на жёстком вытеснении религии из публичного пространства, выглядит исключением. Такая форма была характерна для СССР (политика воинствующего атеизма), и ее черты сохраняются во Франции (запрещение ношение хиджаба, крестов и т.д, в светских школах, Вузах, госучреждениях). Сейчас в Европе такое разделение существует в Ирландии, во Франции и в Нидерландах.
Такая форма светскости досталась по наследству от Советского Союза странам Центральной Азии и сидит в в головах целого поколения. Однако именно её применение часто приводит не к равновесию, а к новому витку конфликта на фоне растущей религиозности населения и разных страхов и фобий со стороны крайних секуляристов. И самое интересное, что даже если государство старается на законодательной основе выстраивать модель кооперации между религией и государством, все равно проблема определения и понимания «светскости» и ее границ остается. Есть и те, кто, прикрываясь защитой светскости, занимают откровенно воинствующую атеистическую, антирелигиозную позицию, или же исповедует новые неязыческие культы. При таком искаженном понимании светскости по-советски, конституция вступает в противоречие с таким пониманием светскости.
Когда государство не диктует религии, как верить, а религиозные организации не вмешиваются в политику. В такой системе Ислам продолжает выполнять свою важную роль в формировании нравственности, укреплении социальных связей и воспитании гражданской ответственности и даже защиты национальной идентичности.
Главное — сохранить равные права для всех: верующих и неверующих, соблюдающих и светских. Религия не должна быть инструментом давления, но и не должна быть изгнана из общественной жизни. Именно через баланс возможна гармония между светской, религиозной системой ценностей и национальной идентичностью. Такой подход, думаю, будет являться залогом мирного сосуществования религиозной, светской и национальной ценностных систем в одном государстве.
Кадыр Маликов
Мировые новости
Идеи Трампа усилят Глобальный Юг
Сегодня, 06:00
Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
Сегодня, 06:00
"Золотые детки" чиновников подставили родителей в Куршевеле. Кремль в гневе: "Будут репрессии и отставки"
Сегодня, 06:00
В Давосе говорили о Гренландии и тираннозавре
Сегодня, 06:00
МВФ ждет ускорения мировой экономики
Сегодня, 06:00
Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих
Сегодня, 06:00
Отношения Белоруссии и США выходят на новый уровень
Сегодня, 06:00
Госсектор предупредили о проникновении цифровых шпионов
Сегодня, 06:00
Юрист разъяснил, что будет за передачу банковской карты родственнику
Вчера, 09:06
План восстановления Украины могут подписать, не учитывая интересов Москвы
Вчера, 06:00
Для Лондона бизнес с Пекином важнее принципов
Вчера, 06:00
Тихановская обсудит в Давосе российскую экономику
Вчера, 06:00
Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов"
Вчера, 06:00
Взломан "сверхсекретный чат" G8! Каллас схватилась за стакан
Вчера, 06:00
"Мы их сломаем. Весь мир наш". Что будет с Россией?
Вчера, 06:00
Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7
20-01-2026, 11:40
Сегодня, 06:00
Германский политолог предсказал раскол Европы из-за «Совета мира»
Сегодня, 06:00
"Золотые детки" чиновников подставили родителей в Куршевеле. Кремль в гневе: "Будут репрессии и отставки"
Сегодня, 06:00
В Давосе говорили о Гренландии и тираннозавре
Сегодня, 06:00
МВФ ждет ускорения мировой экономики
Сегодня, 06:00
Риторика прибалтов о Калининграде опасна для них самих
Сегодня, 06:00
Отношения Белоруссии и США выходят на новый уровень
Сегодня, 06:00
Госсектор предупредили о проникновении цифровых шпионов
Сегодня, 06:00
Юрист разъяснил, что будет за передачу банковской карты родственнику
Вчера, 09:06
План восстановления Украины могут подписать, не учитывая интересов Москвы
Вчера, 06:00
Для Лондона бизнес с Пекином важнее принципов
Вчера, 06:00
Тихановская обсудит в Давосе российскую экономику
Вчера, 06:00
Варианты Трампа в Гренландии – от "честной покупки" и "Крыма 2.0" до "восстания эскимосов"
Вчера, 06:00
Взломан "сверхсекретный чат" G8! Каллас схватилась за стакан
Вчера, 06:00
"Мы их сломаем. Весь мир наш". Что будет с Россией?
Вчера, 06:00
Начавшаяся на Земле магнитная буря достигла уровня G4.7
20-01-2026, 11:40
Кыргызстан
Депутат предлагает запретить в Кыргызстане продажу алкоголя в ночные часы
Вчера, 17:17
За повышение стоимости парковки в центральной части Бишкека выступил мэр
Вчера, 13:03
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Вчера, 13:01
Бывшего полпреда президента в Чуйской области судят за многоженство
Вчера, 12:58
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека
Вчера, 09:35
Жители Дмитриевки против переименования села
Вчера, 09:33
Продавцы Орто-Сайского рынка просят урегулировать цены на мясо у оптовиков
Вчера, 09:31
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ
Вчера, 09:30
Детям из России до 14 лет нужен загранпаспорт, чтобы въехать в Кыргызстан
Вчера, 09:28
Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
20-01-2026, 18:02
Генпрокуратура: Законопроект МВД о рецидиве противоречит Конституции
20-01-2026, 17:59
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
20-01-2026, 17:57
В Бишкеке начнут реконструкцию Дворца спорта
20-01-2026, 10:35
В Кыргызстане неплательщиков алиментов начнут сажать
20-01-2026, 08:54
Садыр Жапаров рассказал, почему нужно поменять водительские удостоверения
20-01-2026, 08:52
Глава НАН КР прокомментировал строительство футбольных полей в Ботаническом саду
18-01-2026, 08:49
Планируется строительство альтернативной дороги к аэропорту «Манас»
18-01-2026, 08:44
Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
17-01-2026, 13:33
Власти предлагают ввести жесткие ограничения на тои и поминки
17-01-2026, 10:30
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
16-01-2026, 13:45
Вчера, 17:17
За повышение стоимости парковки в центральной части Бишкека выступил мэр
Вчера, 13:03
Нурдан Орунтаев объяснил, почему сотрудники Минстроя получают до 500 тысяч сомов
Вчера, 13:01
Бывшего полпреда президента в Чуйской области судят за многоженство
Вчера, 12:58
Здание кинотеатра «Чатыр-Куль» передадут в муниципальную собственность Бишкека
Вчера, 09:35
Жители Дмитриевки против переименования села
Вчера, 09:33
Продавцы Орто-Сайского рынка просят урегулировать цены на мясо у оптовиков
Вчера, 09:31
Кыргызстан занял 117-ю строчку в мировом рейтинге внедрения ИИ
Вчера, 09:30
Детям из России до 14 лет нужен загранпаспорт, чтобы въехать в Кыргызстан
Вчера, 09:28
Требования к знанию кыргызского языка для государственных служащих ужесточили
20-01-2026, 18:02
Генпрокуратура: Законопроект МВД о рецидиве противоречит Конституции
20-01-2026, 17:59
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
20-01-2026, 17:57
В Бишкеке начнут реконструкцию Дворца спорта
20-01-2026, 10:35
В Кыргызстане неплательщиков алиментов начнут сажать
20-01-2026, 08:54
Садыр Жапаров рассказал, почему нужно поменять водительские удостоверения
20-01-2026, 08:52
Глава НАН КР прокомментировал строительство футбольных полей в Ботаническом саду
18-01-2026, 08:49
Планируется строительство альтернативной дороги к аэропорту «Манас»
18-01-2026, 08:44
Упрощены правила оформления паспортов и регистрации граждан
17-01-2026, 13:33
Власти предлагают ввести жесткие ограничения на тои и поминки
17-01-2026, 10:30
В Кыргызстане предлагают разрешить конфискацию имущества до приговора суда
16-01-2026, 13:45
Казахстан, Узбекистан
Объем торговли между Китаем и Центральной Азией в 2025 году превысил $100 млрд
Сегодня, 06:00
Токаев по приглашению Трампа отправится в Давос для подписания устава Совета мира
Вчера, 13:06
Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе, - Данияр Ашимбаев
Вчера, 09:13
В Казахстане будет введена должность вице-президента
20-01-2026, 18:05
Токаев предложил переименовать парламент Казахстана
20-01-2026, 18:04
Шавкат Мирзиеев принял приглашение Трампа стать соучредителем «Совета мира»
20-01-2026, 08:49
Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
20-01-2026, 06:00
Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах
20-01-2026, 06:00
Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве
19-01-2026, 06:00
В Узбекистане озвучили три главных риска для безопасности страны
19-01-2026, 06:00
Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
19-01-2026, 06:00
Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом
18-01-2026, 08:55
Сегодня, 06:00
Токаев по приглашению Трампа отправится в Давос для подписания устава Совета мира
Вчера, 13:06
Курултай в Казахстане. Как Токаев держит карты при себе, - Данияр Ашимбаев
Вчера, 09:13
В Казахстане будет введена должность вице-президента
20-01-2026, 18:05
Токаев предложил переименовать парламент Казахстана
20-01-2026, 18:04
Шавкат Мирзиеев принял приглашение Трампа стать соучредителем «Совета мира»
20-01-2026, 08:49
Эрдоган представил "Видение тюркского мира"
20-01-2026, 06:00
Узбекистан создает "цифровой щит" на своих рубежах
20-01-2026, 06:00
Туркменистан признан самой трезвой страной на постсоветском пространстве
19-01-2026, 06:00
В Узбекистане озвучили три главных риска для безопасности страны
19-01-2026, 06:00
Опасен ли Roblox для детей: депутат обратилась к правительству Казахстана
19-01-2026, 06:00
Оппозиция обсуждает похищение Трампом туркменских Аркадагов вместе с газом
18-01-2026, 08:55
Гороскоп
 Гороскоп на неделю, с 19 по 25 января 2026 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном
Гороскоп на неделю, с 19 по 25 января 2026 года. Какие события наиболее вероятны в ближайшие дни? К чему вам стоит подготовиться? Чего избегать, к чему стремиться? Ответы на эти вопросы вы найдете в еженедельном
Подробнее »
Курс валют НБКР
| На 22.01.2026 | |
| USD | 87,4500 |
| EUR | 102,3996 |
| CNY | 12,5579 |
| KZT | 0,1726 |
| RUB | 1,1244 |